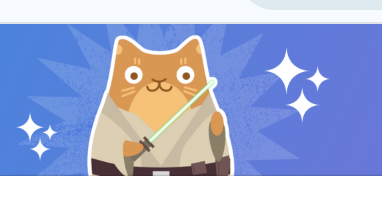
Заказывайте в AI-каталоге - получайте скидку!
5% скидка на размещения в каналах, которые подобрал AI. Промокод: Telega AI
Подробнее
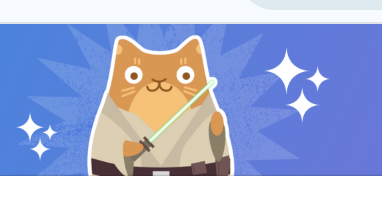
РегистрацияВойтиВойти
Скидка 3,5% на первые три заказа
Получите скидку на первые три заказа!
Зарегистрируйтесь и получите скидку 3,5% на первые рекламные кампании — промокод активен 7 дней.
11.3
Страница из книги
5.0
История
0
0
Концентрат интересных историй.
Каждый день – новый неожиданный отрывок текста.
Об истории, природе вещей и явлений, о цивилизациях и исторических личностях.
Поделиться
В избранное
Купить рекламу в этом канале
Формат:
keyboard_arrow_down
- 1/24
- 7 дней
- Репост
1 час в топе / 24 часа в ленте
Количество:
%keyboard_arrow_down
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
- 10
- 15
Стоимость публикации:
local_activity
1 398.60₽1 398.60₽local_mall
0.0%
Осталось по этой цене:0
Последние посты канала
А еще сегодня я хочу призвать вас поучаствовать в классном проекте. Особенно приятно то, что один из его авторов - Александр Поволоцкий - наш читатель.
Александр — автор канала «Медицинские и немедицинские записки», эксперт по военной медицине. Он готовит к изданию уже вторую книгу четырехтомника «Москва-Севастополь-Москва». Книга художественная, но благодаря глубокому погружению авторов в тему, думаю, что ее смело можно отнести к жанру документальной прозы в самом, пожалуй, редком ее проявлении - это история о медицине на войне.
Как поддержать?
👉 Переходите на страничку сбора планета.ру.
Александр — автор канала «Медицинские и немедицинские записки», эксперт по военной медицине. Он готовит к изданию уже вторую книгу четырехтомника «Москва-Севастополь-Москва». Книга художественная, но благодаря глубокому погружению авторов в тему, думаю, что ее смело можно отнести к жанру документальной прозы в самом, пожалуй, редком ее проявлении - это история о медицине на войне.
Как поддержать?
👉 Переходите на страничку сбора планета.ру.
783
10:55
09.06.2025
imageИзображение не доступно для предпросмотра
Дорогие читатели «Страницы из книги»!
Простите за долгое молчание — месяц творческого кризиса ваш покорный слуга провел в поисках чего-то нового для канала. Что ждёт впереди - на фото :)
Спасибо, что остаётесь с нами.
Простите за долгое молчание — месяц творческого кризиса ваш покорный слуга провел в поисках чего-то нового для канала. Что ждёт впереди - на фото :)
Спасибо, что остаётесь с нами.
794
10:39
09.06.2025
imageИзображение не доступно для предпросмотра
Вы слишком подозрительны
С самого начала Французской Революции слово «подозрительный» появляется в законах вместе с карательными мерами в отношении соответствующих лиц. В последние месяцы 1789 года слово «подозрительный» (suspect) впервые проникает в революционную прессу, причем патриотическая газета Révolutions de Paris дает ему самое широкое определение, упоминая в январе
1790 года в связи с заговором по похищению короля, приписываемым маркизу де Фавра, некоего связанного с маркизом человека, «подозреваемого в том, что он не сторонник революции»
В сентябре 1790 года Декрет об обеспечении безопасности флотского арсенала предписывает арестовывать «всех подозрительных», оказавшихся без разрешения на месте (то есть на военных кораблях) и/или подстрекавших работников и моряков. В июне 1791 года, назавтра после ареста короля в Варенне, принимаются новые меры, имеющие целью увольнение и замену подозрительных офицеров. Накануне расстрела на Марсовом поле Учредительное собрание требует от муниципалитета Парижа держать под контролем «настроения жителей» с целью выявления «несознательных лиц». Отказывающиеся подвергнуться контролю должны заноситься в список «подозрительных» с указанием адресов; податели ложных данных считаются «неблагонадежными».
Неприсягнувшие священники, эмигранты и члены их семей, «несознательные лица», податели ложных заявлений, граждане, ведущие враждебные Революции речи, первыми попадают в «подозрительные»; к ним фактически добавляются спекулянты, к которым теперь может применяться смертная казнь.
Границы «подозрительности» остаются размытыми, пока не принимается следующий декрет, известный как «закон о подозрительных», где предпринята попытка уточнения и, главное, предписано впредь систематически арестовывать всех подозрительных.
К «подозрительным лицам» теперь (не гражданам - этого титула они недостойны) отнесены не только те, кто не смог указать своего источника существования, не исполняет гражданского долга и/или не получил документа о своей преданности отечеству, но и те, кто отстранен от должности Конвентом или командированными народными представителями, аристократы, родители и агенты эмигрантов, не проявлявшие «постоянной преданности Революции», и, наконец, категория с еще более размытыми границами: «те, кто своим поведением, связями, речами или писаниями свидетельствует о приверженности тирании, федерализму и враждебности свободе».
Скопом объявлены преступниками не только роялисты и бунтари-«федералисты», но и просто близкие им люди, которым теперь тоже грозит арест. Представлявший этот декрет Мерлен де Дуэ, юрист и депутат, заседающий в Болоте, позднее стал для своих хулителей «Подозрительным Мерленом».
Книга: «Террор», Мишель Биар и Мариса Линтон
С самого начала Французской Революции слово «подозрительный» появляется в законах вместе с карательными мерами в отношении соответствующих лиц. В последние месяцы 1789 года слово «подозрительный» (suspect) впервые проникает в революционную прессу, причем патриотическая газета Révolutions de Paris дает ему самое широкое определение, упоминая в январе
1790 года в связи с заговором по похищению короля, приписываемым маркизу де Фавра, некоего связанного с маркизом человека, «подозреваемого в том, что он не сторонник революции»
В сентябре 1790 года Декрет об обеспечении безопасности флотского арсенала предписывает арестовывать «всех подозрительных», оказавшихся без разрешения на месте (то есть на военных кораблях) и/или подстрекавших работников и моряков. В июне 1791 года, назавтра после ареста короля в Варенне, принимаются новые меры, имеющие целью увольнение и замену подозрительных офицеров. Накануне расстрела на Марсовом поле Учредительное собрание требует от муниципалитета Парижа держать под контролем «настроения жителей» с целью выявления «несознательных лиц». Отказывающиеся подвергнуться контролю должны заноситься в список «подозрительных» с указанием адресов; податели ложных данных считаются «неблагонадежными».
Неприсягнувшие священники, эмигранты и члены их семей, «несознательные лица», податели ложных заявлений, граждане, ведущие враждебные Революции речи, первыми попадают в «подозрительные»; к ним фактически добавляются спекулянты, к которым теперь может применяться смертная казнь.
Границы «подозрительности» остаются размытыми, пока не принимается следующий декрет, известный как «закон о подозрительных», где предпринята попытка уточнения и, главное, предписано впредь систематически арестовывать всех подозрительных.
К «подозрительным лицам» теперь (не гражданам - этого титула они недостойны) отнесены не только те, кто не смог указать своего источника существования, не исполняет гражданского долга и/или не получил документа о своей преданности отечеству, но и те, кто отстранен от должности Конвентом или командированными народными представителями, аристократы, родители и агенты эмигрантов, не проявлявшие «постоянной преданности Революции», и, наконец, категория с еще более размытыми границами: «те, кто своим поведением, связями, речами или писаниями свидетельствует о приверженности тирании, федерализму и враждебности свободе».
Скопом объявлены преступниками не только роялисты и бунтари-«федералисты», но и просто близкие им люди, которым теперь тоже грозит арест. Представлявший этот декрет Мерлен де Дуэ, юрист и депутат, заседающий в Болоте, позднее стал для своих хулителей «Подозрительным Мерленом».
Книга: «Террор», Мишель Биар и Мариса Линтон
369
18:46
11.06.2025
imageИзображение не доступно для предпросмотра
Границы возлюбленной Земли
Египетский правящий класс эпохи Древнего царства явно не испытывал большой потребности ни в определении своей страны через какое-то имя в единственном числе, ни в четкой фиксации границ державы. Египетское территориальное государство описывалось в текстах как единство двух составляющих, объединенных одним правителем. Видимо, оно и не мыслилось отдельно от царя, формальная власть которого распространялась на всю вселенную, поэтому фактически не имело рубежей, лишь центр
Однако тяга к определенности возникла во время и после бедствий Первого переходного периода, ведь жизнь в мире без четких границ удобна для сильных и очень неудобна для слабых. Очевидно, что именно под впечатлением от социального, экологического и политического кризиса египетские элиты сформулировали в итоге политическую и географическую дихотомию: «Черная (земля)» (кемет) — «Красная (земля)» (дешрет). Тогда же территории к востоку от Нильской долины и дельты начинают именовать в текстах «Землей бога». Чуть позже, во II тыс. до н. э., возникает еще одно определение Египта как «Земли возлюбленной».
В литературе выражение «Земля бога» неоднократно обсуждалось. В основном дискуссия велась вокруг попытки выяснить, кто же был богом данной земли и где она располагалась.
Во времена упадка древнеегипетской монархии, которые были отмечены проникновением в Нильскую долину и дельту чужеземцев, социальными потрясениями и кровавыми междоусобицами, египтяне пережили, как бы сегодня сказали, сильный кризис идентичности. Большую часть III тыс. до н. э. терминология для обозначения внешних границ была весьма размыта и встречалась преимущественно в религиозных «Текстах пирамид», а мотивов демаркации рубежей государства в дошедших источниках фактически не встречается. Но с Первого переходного периода все изменилось.
Сначала появилась соответствующая «пограничная» терминология, а чуть позднее —
практика установки царских пограничных стел, тексты на которых призывали потомков к удержанию или расширению имеющихся рубежей. Тогда же редко использовавшийся и, видимо, весьма нейтральный в эпоху Древнего царства термин хастиу, определявший жителей Пустыни, превратился в обозначение людей ненавистных и живущих «не по-людски». Причем использовался
он теперь не только применительно к чужеземцам, но и к презревшим должный порядок вещей (Маат) египтянам. Можно сказать, что для представителей египетского правящего класса одним из результатов первого крупного кризиса их цивилизации стало переосмысление структуры вселенной и места в нем египетской земли
и египетского государства.
Книга: «Красная земля», Максим Лебедев
Египетский правящий класс эпохи Древнего царства явно не испытывал большой потребности ни в определении своей страны через какое-то имя в единственном числе, ни в четкой фиксации границ державы. Египетское территориальное государство описывалось в текстах как единство двух составляющих, объединенных одним правителем. Видимо, оно и не мыслилось отдельно от царя, формальная власть которого распространялась на всю вселенную, поэтому фактически не имело рубежей, лишь центр
Однако тяга к определенности возникла во время и после бедствий Первого переходного периода, ведь жизнь в мире без четких границ удобна для сильных и очень неудобна для слабых. Очевидно, что именно под впечатлением от социального, экологического и политического кризиса египетские элиты сформулировали в итоге политическую и географическую дихотомию: «Черная (земля)» (кемет) — «Красная (земля)» (дешрет). Тогда же территории к востоку от Нильской долины и дельты начинают именовать в текстах «Землей бога». Чуть позже, во II тыс. до н. э., возникает еще одно определение Египта как «Земли возлюбленной».
В литературе выражение «Земля бога» неоднократно обсуждалось. В основном дискуссия велась вокруг попытки выяснить, кто же был богом данной земли и где она располагалась.
Во времена упадка древнеегипетской монархии, которые были отмечены проникновением в Нильскую долину и дельту чужеземцев, социальными потрясениями и кровавыми междоусобицами, египтяне пережили, как бы сегодня сказали, сильный кризис идентичности. Большую часть III тыс. до н. э. терминология для обозначения внешних границ была весьма размыта и встречалась преимущественно в религиозных «Текстах пирамид», а мотивов демаркации рубежей государства в дошедших источниках фактически не встречается. Но с Первого переходного периода все изменилось.
Сначала появилась соответствующая «пограничная» терминология, а чуть позднее —
практика установки царских пограничных стел, тексты на которых призывали потомков к удержанию или расширению имеющихся рубежей. Тогда же редко использовавшийся и, видимо, весьма нейтральный в эпоху Древнего царства термин хастиу, определявший жителей Пустыни, превратился в обозначение людей ненавистных и живущих «не по-людски». Причем использовался
он теперь не только применительно к чужеземцам, но и к презревшим должный порядок вещей (Маат) египтянам. Можно сказать, что для представителей египетского правящего класса одним из результатов первого крупного кризиса их цивилизации стало переосмысление структуры вселенной и места в нем египетской земли
и египетского государства.
Книга: «Красная земля», Максим Лебедев
621
18:25
10.06.2025
imageИзображение не доступно для предпросмотра
Римская улыбка
Нам сложно себе представить взаимодействие между людьми и общественную жизнь без улыбок, но при этом найти эквивалент слова «улыбка» на латыни не так-то просто
В древнегреческом дела с этим обстоят несколько лучше. «Meidiaõ» традиционно переводится как улыбка, хотя некоторые нюансы смысла при этом, безусловно, теряются. В латыни же специального слова для обозначения чего-то подобного попросту нет. Рисуя образы «улыбающихся» гомеровских богов, Вергилий вынужден прибегать к производному от «ridere» - глаголу «subridere», который в строгом смысле означает «смеяться сдавленно, сдержанно» или «потихоньку».
Глагол «renidere» («сиять»), употребленный иносказательно, также может обозначать нечто похожее на молчаливую улыбку. Зубоскал Эгнатий - герой известного стихотворения Катулла именно «сияет», показывая свои белоснежные зубы, начищенные мочой («Egnatius... renidet»). Овидий прибегает к слову «renidens» дважды, описывая выражение глупого оптимизма на лице молодого Икара; Ливий характеризует с его помощью физиономию хвастливого хитреца; и, наконец, Квинтилиан употребляет это слово, говоря о неуместном проявлении радости (intempestive renidentis).
Речь часто идет о выражении лица в целом, а не о движении губ. Улыбались ли римляне?
Нет, отвечаю я, по крайней мере, не в нашем смысле этого слова.
Встречаясь на улице, римляне, скорее всего, приветствовали друг друга поцелуем, а не улыбкой.
Специфические черты латинского языка не единственный довод в пользу гипотезы о том, что улыбка не играла существенной роли (если вообще играла какую-либо роль) в знаковой системе римлян. Римские писатели попросту не проводят разграничения между смехом и улыбкой, которое столь важно для людей, подобных лорду Честерфилду: улыбка для них проявление благопристойности, тогда как «громкие раскаты хохота» верх неприличия.
Книга: «Смех в Древнем Риме», Мэри Бирд
Нам сложно себе представить взаимодействие между людьми и общественную жизнь без улыбок, но при этом найти эквивалент слова «улыбка» на латыни не так-то просто
В древнегреческом дела с этим обстоят несколько лучше. «Meidiaõ» традиционно переводится как улыбка, хотя некоторые нюансы смысла при этом, безусловно, теряются. В латыни же специального слова для обозначения чего-то подобного попросту нет. Рисуя образы «улыбающихся» гомеровских богов, Вергилий вынужден прибегать к производному от «ridere» - глаголу «subridere», который в строгом смысле означает «смеяться сдавленно, сдержанно» или «потихоньку».
Глагол «renidere» («сиять»), употребленный иносказательно, также может обозначать нечто похожее на молчаливую улыбку. Зубоскал Эгнатий - герой известного стихотворения Катулла именно «сияет», показывая свои белоснежные зубы, начищенные мочой («Egnatius... renidet»). Овидий прибегает к слову «renidens» дважды, описывая выражение глупого оптимизма на лице молодого Икара; Ливий характеризует с его помощью физиономию хвастливого хитреца; и, наконец, Квинтилиан употребляет это слово, говоря о неуместном проявлении радости (intempestive renidentis).
Речь часто идет о выражении лица в целом, а не о движении губ. Улыбались ли римляне?
Нет, отвечаю я, по крайней мере, не в нашем смысле этого слова.
Встречаясь на улице, римляне, скорее всего, приветствовали друг друга поцелуем, а не улыбкой.
Специфические черты латинского языка не единственный довод в пользу гипотезы о том, что улыбка не играла существенной роли (если вообще играла какую-либо роль) в знаковой системе римлян. Римские писатели попросту не проводят разграничения между смехом и улыбкой, которое столь важно для людей, подобных лорду Честерфилду: улыбка для них проявление благопристойности, тогда как «громкие раскаты хохота» верх неприличия.
Книга: «Смех в Древнем Риме», Мэри Бирд
803
18:10
12.06.2025
close
Отзывы канала
keyboard_arrow_down
- Добавлен: Сначала новые
- Добавлен: Сначала старые
- Оценка: По убыванию
- Оценка: По возрастанию
5.0
0 отзыва за 6 мес.
d
**v_deucecr1me@*******.com
на сервисе с сентября 2023
27.09.202315:15
5
Благодарю!
Лучшие в тематике
keyboard_double_arrow_left
shopping_cart
Каналов:
0
Подписчиков:
0
Просмотров:
lock_outline
Итого:
0.00₽
Перейти в корзину
Очистить корзину
Вы действительно хотите очистить корзину?
Вы снова сможете добавить каналы в корзину из каталога
Вы снова сможете добавить каналы в корзину из каталога
Очистить
Отменить
Комментарий